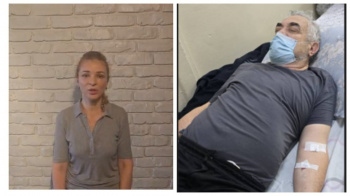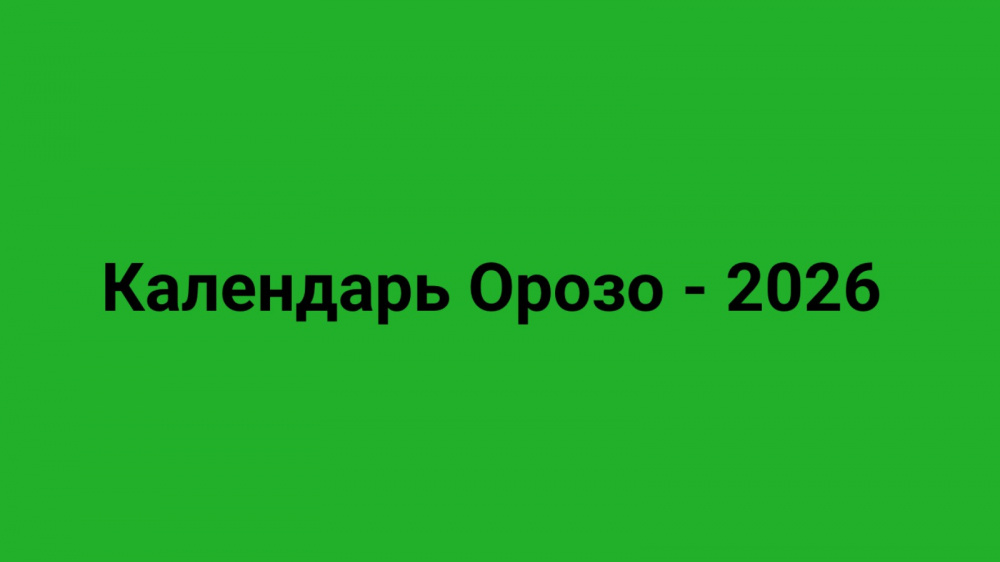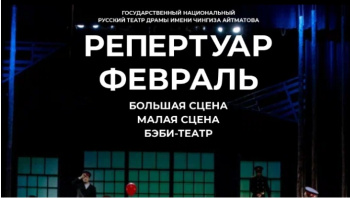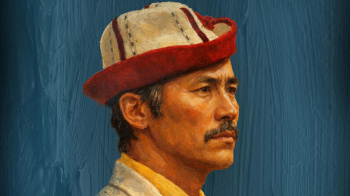"Адилет" проанализировал проект закона о конфискации имущества до решения суда
Правовая клиника "Адилет" опубликовала анализ проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и Гражданский кодекс Кыргызской Республики)", который размещен на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики . Комментарий правовой клиники размещен на этом же портале.
Общие положения
Рассматриваемым законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики и Гражданский кодекс Кыргызской Республики.
Согласно справке-обоснованию, целью предлагаемого законопроекта является внедрение в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики нового правового механизма - производства о конфискации имущества, полученного незаконным путем, до вынесения приговора, позволяющего изымать активы, происхождение которых не может быть подтверждено законными источниками, без необходимости вынесения обвинительного приговора. Внедрение данного института направлено на повышение эффективности борьбы с коррупцией и организованной преступностью, обеспечение возврата активов в государственный бюджет и укрепление правового государства в соответствии с международными стандартами.
Концепция законопроекта, предусматривающая введение института конфискации имущества до вынесения обвинительного приговора, противоречит положениям Конституции Кыргызской Республики и основополагающим принципам уголовного содержания, правовой определенности и защиты права собственности. Законопроект затрагивает фундаментальные гарантии, закрепленные в Конституции, и вводит механизмы, создающие риски произвольного вмешательства в частную сферу, нарушения процедурных гарантий и расширения дискреционных полномочий государственных органов.
II. Правовая экспертиза
1. Противоречия с нормами Конституции Кыргызской Республики.
Концепция законопроекта, позволяющая применять конфискацию имущества до вынесения обвинительного приговора суда, находится в противоречии с рядом норм Конституции и международных обязательств Кыргызской Республики по следующим обстоятельствам.
Проект, который допускает возможность конфискации имущества до вынесения обвинительного приговора суда, затрагивают базовые гарантии, на которых выстроена национальная система защиты прав человека, и существенно изменяют понимание пределов вмешательства государства в имущественную сферу граждан.
1.1. Презумпция невиновности (статья 57 Конституции КР). Каждый считается невиновным в совершении преступления и/или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Нарушение этого принципа является основанием для возмещения материального ущерба и морального вреда в судебном порядке.
Предлагаемый институт конфискации допускает:
- признание имущества незаконным;
- установление связи имущества с преступлением;
- применение уголовно-правовой меры (конфискации), в отсутствие обвинительного приговора, т.е. без признания виновности лица.
Таким образом, законопроект фактически вводит квази-уголовную ответственность, противоречащую статье 57 Конституции.
Решение суда о конфискации имущества до приговора по своей юридической природе является обвинительным по фактическим обстоятельствам, что недопустимо в правовом государстве.
Конституция закрепляет принцип, согласно которому лицо считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена в предусмотренном законом порядке и подтверждена вступившим в силу приговором суда. Этот принцип является не просто формальной нормой, а гарантией того, что государство не может вмешиваться в права гражданина на основании предположений о его причастности к преступлению.
Предлагаемая модель конфискации фактически предполагает, что суд может признать имущество незаконным по происхождению, установить связь между этим имуществом и предполагаемым преступлением и применить меру, которая относится к уголовно-правовым. Всё это предлагается делать без подтвержденной приговором вины лица. Таким образом возникает ситуация, в которой государство получает возможность по существу признавать человека виновным в отсутствии установленного преступления. Это нарушает саму природу презумпции невиновности.
Любое решение суда о конфискации имущества до окончания уголовного процесса неизбежно содержит вывод о том, что имущество связано с преступной деятельностью. Такой вывод можно сделать только после всестороннего судебного разбирательства и лишь при наличии обвинительного приговора. Если же конфискация допускается на ранней стадии, то она превращается в форму косвенного обвинения без приговора, что недопустимо в правовом государстве.
1.2. Право собственности и порядок изъятия имущества (статья 20 Конституции КР).
Статья 20 Конституции Кыргызской Республики закрепляет одну из основ правового государства, поскольку она защищает неприкосновенность собственности и допускает её изъятие только по решению суда в тех ситуациях, которые прямо установлены законом.
При этом Конституция требует, чтобы любое вмешательство государства происходило с соблюдением принципов справедливой процедуры, правовой определенности и соразмерности. Это означает, что ограничение имущественных прав может быть оправдано только тогда, когда установлены конкретные факты, подтверждающие необходимость такого вмешательства. Предположения о возможном незаконном происхождении имущества не могут служить достаточным основанием для лишения собственности.
Из содержания Конституции и действующего законодательства следует, что конфискация имущества допускается исключительно как последствие признанной судом виновности. Конфискация относится к уголовно-правовым мерам, а такие меры могут применяться только в связи с установленным преступлением. Установление преступления возможно лишь после прохождения всех стадий уголовного судопроизводства и вынесения обвинительного приговора. Таким образом, сама Конституция связывает возможность применения конфискации с обязательным наличием вступившего в силу приговора суда, который подтверждает факт преступления и виновность конкретного лица.
Если же предлагается лишать собственности без установленной виновности, то такая модель допускает применение конфискации при отсутствии обвинительного приговора, без подтверждённой причастности лица к преступлению и без установленных фактов противоправности происхождения имущества. Это по своей сути означает, что суд будет вмешиваться в имущественную сферу до того, как будет установлено, что преступление действительно имело место и что имущество получено незаконным путем. Подобное вмешательство становится фактическим наказанием, применяемым без признания виновности, что несовместимо с конституционными гарантиями.
Право собственности относится к числу фундаментальных конституционных прав. Поэтому Конституция предусматривает возможность изъятия имущества только на основе судебного решения в строго определённых законом случаях.
Она также требует соблюдения принципов правовой определенности и справедливой процедуры. Это означает, что суд может лишить человека имущества только тогда, когда установлены соответствующие обстоятельства, а не когда они предполагаются.
В существующем законодательстве конфискация является уголовно-правовой мерой, применяемой исключительно как последствие преступления. Такое понимание конфискации соответствует как национальной системе права, так и международной практике. Принцип заключается в том, что лишение собственности возможно только после того, как суд установит не только само событие преступления, но и виновность лица, а также связь имущества с преступной деятельностью.
Проект предлагает иной подход. Он допускает лишение имущества без признания виновности. В результате возникает ситуация, при которой государство получает возможность вмешиваться в имущественные права граждан на основании предположений о незаконном происхождении имущества, хотя факт преступления еще не подтвержден. Кроме того, суду предлагается фактически оценивать обстоятельства, которые характерны для уголовного дела. Это касается и поведения лица, и происхождения имущества, и последующих сделок, и иных элементов, которые требуют полноценного уголовного разбирательства. Всё это предполагается рассматривать в отсутствие приговора.
Такая конструкция нарушает логическую связь между преступлением и последствием в виде конфискации. Она создает ситуацию, когда гражданин может быть лишен имущества до того, как суд установит, было ли преступление совершено, кто его совершил и каким образом имущество связано с противоправными действиями. Это приводит к тому, что вмешательство государства основано не на проверенных фактах, а на предположениях, что несовместимо с конституционными принципами защиты имущественных прав.
1.3. Нарушение принципа соразмерности. На наш взгляд, наблюдается нарушение принципа соразмерности вмешательства, который должен обосновать необходимость вмешательства, обоснованность меры и минимальное ограничение прав.
Принцип соразмерности требует, чтобы любое вмешательство государства в права человека имело четкое обоснование, соответствовало реальной необходимости и не выходило за пределы минимально допустимого воздействия. Этот принцип особенно важен при применении мер, которые непосредственно затрагивают имущественные права граждан.
Конфискация относится к числу наиболее строгих мер, поскольку она полностью лишает человека имущества и не предполагает простого механизма восстановления нарушенного права в случае ошибки. По этой причине конфискация может применяться только тогда, когда соблюдены все условия правовой определенности и исключена вероятность произвольного вмешательства.
Когда предлагается применять конфискацию до вынесения обвинительного приговора суда, отсутствует главный юридический факт, который оправдывает такое серьезное вмешательство. На этом этапе нет установленного преступления, нет доказанной виновности конкретного лица, нет судебной оценки обстоятельств, которые могли бы подтвердить связь имущества с противоправной деятельностью. В такой ситуации конфискация неизбежно выходит за пределы допустимого вмешательства, поскольку государство лишает человека имущества до того, как убедилось в наличии оснований для такого решения.
Применение столь строгой меры без приговора приводит к тому, что вмешательство происходит на основании предположений, а не установленных фактических данных. Это лишает меру соразмерности и превращает ее в инструмент, который может нарушить баланс между защитой общественных интересов и соблюдением прав граждан. В условиях отсутствия подтвержденных фактов такое вмешательство становится преждевременным и ничем не оправданным. Оно подрывает доверие к правосудию и нарушает саму природу принципа соразмерности, который призван защищать граждан от чрезмерных и необоснованных ограничений их прав.
1.4. Угроза произвольного применения нормы. Проект предлагает нормы, которые построены на широких и неопределённых оценочных понятиях. Подобные формулировки дают органам следствия и прокуратуре слишком большую свободу усмотрения и создают ситуацию, в которой граждане и добросовестные собственники не могут заранее понять, какие действия могут повлечь вмешательство в их имущественные права. Когда отсутствуют четкие и прозрачные процедурные правила, суд оказывается вынужден самостоятельно выяснять происхождение имущества, устанавливать его предполагаемую связь с преступлением и анализировать обстоятельства, которые характерны для полноценного уголовного процесса. Это выходит за рамки тех задач, которые суд должен решать при отсутствии обвинительного приговора.
Введение такой модели неизбежно порождает риск произвольного применения нормы. На практике возможно, что конфискация будет использоваться неравномерно, а в отдельных случаях станет инструментом давления на граждан или бизнес.
В условиях неопределенности и широкого усмотрения правоохранительные органы получают возможность применять механизм изъятия имущества по своим внутренним оценкам, а не на основании установленных фактов.
В итоге возникает угроза того, что упрощенная процедура конфискации будет подменять собой полноценное уголовное разбирательство, что подрывает доверие к правосудию и снижает уровень гарантий, предусмотренных Конституцией.
2. Создание параллельного процесса вне рамок уголовного судопроизводства.
Проект закона фактически формирует самостоятельную процедуру, в рамках которой суд должен устанавливать обстоятельства предполагаемого преступления, оценивать доказательства, делать выводы о незаконности происхождения имущества и принимать решение о его изъятии, хотя все эти вопросы традиционно решаются только в уголовном процессе. Таким образом возникает параллельная система рассмотрения материалов, которая дублирует элементы уголовного судопроизводства и подрывает принцип его единства и целостности.
При этом проект не содержит стандартов доказывания, которые были бы сопоставимы с теми, что применяются в уголовных делах. В нем отсутствуют критерии, позволяющие определить незаконный характер имущества. Не предусмотрены гарантии для защиты добросовестных третьих лиц. Не установлен механизм возмещения ущерба в случае незаконной конфискации, что особенно важно, учитывая необратимый характер изъятия имущества. Отсутствие четких процедурных фильтров создает неопределённость и делает принятие решений зависимым от усмотрения уполномоченных органов. Такая неопределенность противоречит принципу правовой определенности и создает широкие возможности для произвольного применения нормы.
3. Коррупционные риски и расширение дискреционных полномочий государственных органов (статья 4 Конституции КР).
Статья 4 Конституции запрещает любые действия государственных органов, которые могут создавать условия для коррупции. В предлагаемой модели конфискации заложены значительные риски именно такого характера. Проект наделяет следователя и прокурора широкой дискреционной властью, позволяя инициировать производство о конфискации по собственному усмотрению. При этом государственные органы получают возможность возбуждать такие производства независимо от рассмотрения уголовного дела и применять конфискацию до того, как суд установит наличие преступления.
Отсутствие механизмов независимой проверки действий следствия, отсутствие полноценной судебной оценки доказательств и фактическое упрощение процедуры изъятия имущества создают условия, в которых решение о конфискации может стать инструментом давления на бизнес и граждан. Возникает риск избирательного возбуждения дел, злоупотребления полномочиями и возникновения конфликтов интересов. В совокупности это противоречит требованиям статьи 4 Конституции и создаёт предпосылки для расширения коррупционных практик.
4. Ограничение конституционных прав, не подлежащих ограничению (часть 5 статьи 23).
Часть 5 статьи 23 Конституции прямо указывает, что права и свободы, предусмотренные Конституцией, не могут быть ограничены иначе как в случаях, которые сама Конституция допускает. Предлагаемая модель конфискации до приговора затрагивает целый ряд таких прав. Это относится к праву собственности, закреплённому в статье 20, к гарантии презумпции невиновности, установленной статьёй 57, к праву на судебную защиту, которое содержит статья 61, и к праву на неприкосновенность частной жизни, предусмотренному статьей 29.
Поскольку Конституция не допускает ограничение этих прав в форме конфискации имущества до установления виновности суда, предложенный механизм выходит за пределы конституционно допустимых рамок. Введение такой меры без прямого указания в Конституции является неправомерным и нарушает установленную систему гарантий прав граждан.
5. Квази-уголовная природа предлагаемой ответственности.
Конфискация имущества по своей сущности относится к мерам уголовно-правового воздействия, что прямо следует из Уголовного кодекса. Это означает, что она может применяться только в рамках уголовного судопроизводства, после установления всех обстоятельств преступления и подтверждения виновности лица приговором суда. Попытка заменить приговор постановлением суда о конфискации и тем самым вывести конфискацию из уголовного процесса и представить ее как самостоятельную процедуру искажает природу этой меры.
Такой подход фактически создает квази-уголовное наказание без признания виновности. Он вступает в противоречие с международными обязательствами Кыргызской Республики, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, который в статьях 14 и 15 закрепляет обязательность судебного установления виновности перед применением мер карательного характера. Международные органы неоднократно подчёркивали, что меры, которые несут в себе признаки наказания и затрагивают имущественную сферу граждан, могут применяться только после вынесения приговора и только при соблюдении всех гарантий справедливого судебного разбирательства.
6. Анализ международных документов: пределы и условия применения конфискации.
При рассмотрении вопроса о допустимости конфискации имущества необходимо учитывать положения международных документов, на которые нередко ссылаются инициаторы подобных законопроектов. Однако внимательный анализ этих актов показывает, что международное право не требует от государств введения механизмов конфискации имущества до вынесения обвинительного приговора. Международные документы допускают применение конфискации только при соблюдении процессуальных гарантий, установленных стандартов доказывания и эффективного судебного контроля. В них отсутствуют положения, которые позволяли бы государству изымать имущество на основе предположений или без установления факта преступления.
- Конвенция ООН против коррупции
Конвенция действительно предусматривает обязательство государств обеспечить возможность конфискации доходов, полученных в результате преступлений, а также имущества, преобразованного из таких доходов, и средств, использованных для их совершения. Однако сама логика Конвенции построена на том, что речь идёт о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с ее нормами. Это означает, что государство должно сначала установить состав преступления, собрать доказательства незаконного происхождения имущества и провести процедуру, соответствующую уголовному законодательству. Конвенция не содержит норм, допускающих конфискацию имущества до подтверждения факта преступления и виновности конкретного лица.
- Европейская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 год).
Эта Конвенция определяет доходы преступления как экономическую выгоду, полученную в результате совершения преступления. Из этого следует, что сначала должно быть установлено само преступление, и только затем можно определять, является ли имущество доходом от такого деяния. Конвенция прямо закрепляет конфискацию доходов от преступных действий, а не имущества, происхождение которого лишь предполагается незаконным. Следовательно, положения этого документа не могут служить основанием для конфискации без приговора или иного процессуального решения, устанавливающего факт преступления.
- Бангкокская декларация.
В Бангкокской декларации действительно упоминается комплексный режим замораживания и конфискации доходов от преступной деятельности, который может включать как меры, основанные на приговоре, так и меры, допускающие возможность действий без приговора. Однако важно учитывать, что декларация не имеет обязательной юридической силы и не устанавливает требований к процессуальным гарантиям. Она предоставляет государствам свободу выбора модели, при этом подчёркивает необходимость соблюдения национальных конституций и принципов верховенства закона. Поэтому ссылка на данный документ не может оправдывать нарушение статей 20 и 57 Конституции.
- Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (1929 год).
Эта Конвенция требует конфискации поддельных денежных знаков и оборудования, используемого для их изготовления. Однако такая конфискация носит предметный характер, поскольку касается объектов, которые не могут находиться в гражданском обороте. Эти предметы по своей природе незаконны и подлежат изъятию независимо от исхода уголовного дела. Это существенно отличается от изъятия имущества граждан, которое предполагается применить до вынесения приговора. Поэтому нормы этой Конвенции нельзя рассматривать как юридическое основание для конфискации имущества добросовестных собственников до установления факта преступления.
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 год).
Документ рекомендует государствам принимать меры по конфискации доходов от преступлений, а также имущества, стоимость которого соответствует этим доходам. Но и в этом случае речь идет именно о доходах от преступлений, охватываемых Конвенцией. Преступление должно быть установлено, а меры принимаются либо в рамках уголовного процесса, либо в процедурах, которые предусматривают достаточные гарантии защиты прав. Конвенция не допускает лишение имущества, если факт преступления не подтвержден.
- Кишиневская конвенция о правовой помощи (2002 год).
Эта Конвенция регулирует вопросы международного сотрудничества, такие как розыск, арест и обеспечение конфискации имущества. Однако она не определяет основания конфискации, порядок признания имущества незаконным и стандарты доказывания. Документ выполняет техническую функцию координации действий между государствами, но не создает материальных норм, которые могли бы обосновать конфискацию имущества без приговора.
Международные правовые акты действительно допускают конфискацию доходов от преступлений, а также меры по замораживанию имущества. Они описывают различные подходы и модели, которые государства могут использовать в борьбе с преступностью. Однако ни один из международных документов не предусматривает обязанности вводить конфискацию до вынесения обвинительного приговора и не освобождает государства от соблюдения конституционных гарантий. Они не допускают применения мер карательного характера на основании предположений незаконности имущества и не позволяют заменять уголовное судопроизводство отдельными процедурами административного или квазисудебного характера.
Таким образом, международные документы не могут служить обоснованием для предлагаемого закона, поскольку Конституция Кыргызской Республики имеет высшую юридическую силу, а международные стандарты требуют строгого соблюдения процессуальных гарантий и установления факта преступления. Конфискация без приговора противоречит основополагающим принципам уголовного права и нарушает требования правовой определённости.
7. Внутренние противоречия в законопроекте.
Формулировка, предлагаемая в статье 69 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, устанавливает общее правило, согласно которому конфискация осуществляется по решению суда. Такая редакция по смыслу охватывает все случаи применения конфискации и фактически заменяет прямое указание на необходимость обвинительного приговора общей формулой о судебном решении. При этом норма не разграничивает обычную конфискацию, которая применяется как мера уголовного наказания по приговору суда, и иные возможные процедуры.
Одновременно законопроект вводит в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики новую главу, в которой предусматривается иной порядок конфискации, применимый только в специальных ситуациях. Такой порядок допускается в случаях, когда обвиняемый объявлен в розыск либо когда уголовное преследование прекращено по пунктам 7 и 12 части первой статьи 27 УПК. В этих ситуациях следователь вправе инициировать самостоятельное производство о конфискации при наличии сведений о незаконном происхождении имущества. Это предполагает возможность применения конфискации вне рамок обычного уголовного процесса и без вынесения приговора.
Таким образом, проект предлагает две разные модели конфискации. С одной стороны, в Уголовном кодексе Кыргызской Республики закрепляется общее правило о конфискации по решению суда без конкретизации её видов. С другой стороны, в УПК создаётся специальный порядок, позволяющий применять конфискацию в особом производстве, инициируемом следствием. Эти нормы не соотносятся между собой и не дают ясного понимания того, каким образом общий подход, закрепленный в УК, согласуется с предлагаемой процедурой в УПК. В связи с чем это создает внутреннее несоответствие между материальной нормой и процессуальным механизмом, предусмотренным законопроектом.
III. Справка-обоснование
- 1.
Кроме того, введение конфискации до вынесения приговора может негативно отразиться на правах добросовестных собственников, которые не обладают достаточными механизмами защиты в случае ошибочных решений. Отсутствие четкой регламентации порядка доказывания и оценки происхождения имущества увеличивает вероятность возникновения конфликтных ситуаций и снижает уровень защиты имущественных прав. В совокупности такие факторы усилят социальную напряженность и подорвут доверие граждан к правовой системе.
Также следует отметить, что принятие законопроекта может негативно сказаться на уровне доверия граждан к деятельности государственных органов. Применение конфискации без установления виновности создаёт ощущение произвольности и неопределённости, что неизбежно приводит к снижению индекса восприятия коррупции и уровня доверия к правосудию. Это затрагивает не только отдельные институты, но и в целом восприятие верховенства права в стране.
С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что, согласно части 1 статьи 20 Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", проекты нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы обеспечения конституционных прав и свобод граждан, борьбы с правонарушениями и введения новых способов государственного регулирования подлежат обязательному проведению правовой, правозащитной, антикоррупционной, гендерной, экологической и иных научных экспертиз. Полагаем, что представленный законопроект должен пройти как минимум правозащитную и антикоррупционную экспертизы. Такие экспертизы необходимы для оценки соответствия проекта конституционным гарантиям, выявления возможных рисков нарушения прав граждан и предотвращения злоупотреблений при его применении.
Выводы
Проведенный анализ показывает, что предлагаемая модель конфискации имущества до вынесения обвинительного приговора фактически вводит уголовно-правовую меру без установленной вины лица. Такой подход не согласуется с конституционными принципами, заложенными в статьях 20 и 57 Конституции, поскольку презумпция невиновности и неприкосновенность собственности являются основополагающими гарантиями правового государства. Конфискация имущества является мерой карательного характера, которая может применяться только на основе судебного приговора, устанавливающего факт преступления и виновность лица. Предлагаемая конструкция подменяет уголовный процесс параллельной процедурой, что нарушает принцип правовой определённости, создаёт угрозу злоупотреблений и противоречит международным обязательствам Кыргызской Республики, требующим соблюдения процессуальных гарантий и судебного контроля.
Проект допускает вмешательство в имущественную сферу граждан до установления факта преступления, что приводит к нарушению принципа соразмерности и создаёт риск произвольного применения норм. Предлагаемый механизм затрагивает конституционные права, которые не могут быть ограничены без прямого указания в Конституции, и создает значительные коррупционные риски в связи с расширением дискреционных полномочий правоохранительных органов. В совокупности эти обстоятельства свидетельствуют о том, что законопроект в его нынешнем виде не выдерживает конституционно-правовой проверки и требует существенной переработки.
Рекомендации
С учетом выявленных правовых рисков целесообразно отказаться от внедрения конфискации имущества до вынесения обвинительного приговора в том виде, который предложен законопроектом. Механизм может рассматриваться лишь в рамках уголовного судопроизводства и только при условии строгого соблюдения процессуальных гарантий, обеспечивающих защиту прав граждан и исключающих произвольное вмешательство в имущественные отношения. Любые попытки внедрения аналогичных процедур должны исходить из недопустимости подмены уголовного разбирательства упрощённым порядком и должны быть согласованы с конституционными стандартами.
Рекомендуется направить законопроект на дополнительную правозащитную и антикоррупционную экспертизы. Проведение таких экспертиз позволит получить всестороннюю оценку проекта, выявить дополнительные риски и обеспечить соблюдение конституционных принципов, на которых строится правовая система Кыргызской Республики.